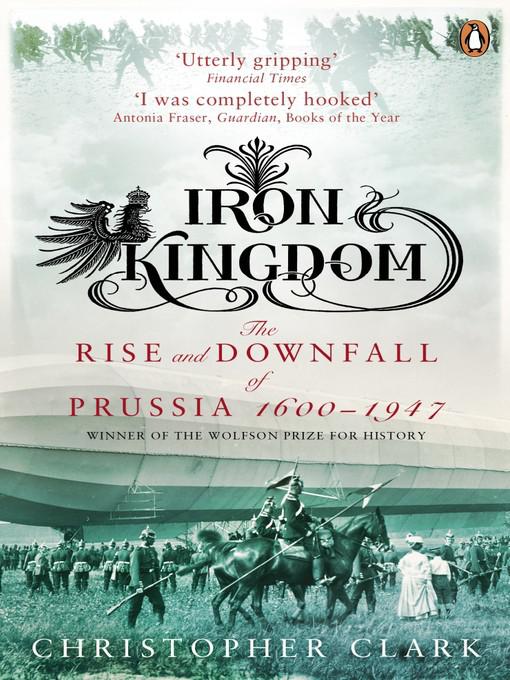привычной веры в священное писание, духовенство и - как следствие - суверенную власть.55 Необходимость в стабилизирующих мерах казалась тем более насущной, что поглощение значительной части польской территории (см. главу 10 ниже) значительно увеличило число католических подданных Пруссии и поставило под вопрос конфессиональный баланс сил в королевстве. По этим и другим причинам многие виднейшие просвещенные богословы с радостью поддержали эдикт как политику поддержания религиозного мира.56
Поэтому не имеет смысла рассматривать споры, разгоревшиеся вокруг эдикта, как конфликт между "просвещением" и политической "реакцией", стремящейся повернуть время вспять. На самом деле борьба шла между различными представлениями о просвещении. С одной стороны, были просвещенные защитники эдикта, которые видели в нем рациональное использование государственной власти в интересах религиозного мира и свободы людей, чтобы их "не беспокоили в выбранном ими общественном исповедании".57 С другой стороны, были и радикальные критики, утверждавшие, что эдикт угнетает индивидуальную совесть; один из них, кантовский профессор права Готфрид Хуфеланд, даже утверждал, что общественные институты должны отражать рациональные убеждения составляющих их людей, хотя это и подразумевало, что "церквей должно быть столько, сколько личных убеждений".58 С одной стороны, конфессиональные идентичности, завещанные историей современности, были частицами религиозной свободы, которую необходимо было защитить от анархического индивидуализма радикальных критиков; с другой стороны, они были удушающим наследием прошлого, чье дальнейшее существование было бременем для индивидуальной совести. Реальный вопрос касался места рационального действия. Должно ли оно находиться в руках государства, как предлагал Пуфендорф, или же оно должно быть доверено разворачивающемуся разумному поиску индивидов, как предлагали более радикальные ученики Канта? Может ли государство лучше поддерживать рациональный общественный порядок, основанный на принципах естественного права, или это следует оставить на усмотрение все более динамичных политических сил в рамках формирующегося гражданского общества?
Общественный фурор, вызванный эдиктом и сопутствующими ему мерами, показал, насколько просвещенная критическая дискуссия уже политизировала прусскую общественность. В тоне печатных комментариев появилась новая резкость, которая заставила короля в сентябре 1788 года с тревогой заметить, что "свобода прессы" (Presse-Freyheit) превратилась в "наглость прессы" (Presse-Frechheit).59 Кроме того, существовали институциональные трения между временными органами, созданными Вёльнером для обеспечения соблюдения эдикта посредством цензуры, и существующими органами церковного самоуправления, во многих из которых преобладали либералы-богословы. Дисциплинарный процесс против вопиюще гетеродоксального пастора Шульца потерпел крах, когда назначенные для расследования его дела высокопоставленные судебные и консисториальные чиновники пришли к выводу , что, поскольку он является христианином (хотя и не лютеранином как таковым), ему следует разрешить оставаться в должности.60 Как показал этот и многие другие случаи, на вершине административной системы теперь существовала сеть чиновников, прошедших через горнило берлинского просвещения и готовых защищать свое понимание просвещенного политического порядка от авторитарных предписаний Вельнера и Фридриха Вильгельма II.61 Несомненно, не случайно Иоганн Фридрих Цёлльнер, консисториальный чиновник, принявший трактат к публикации, Иоганн Георг Гебхард, кальвинистский автор трактата, и Эрнст Фердинанд Кляйн, судья, которому было поручено вынести вердикт для Верховного суда, были в свое время членами берлинского клуба "Среда".
Перед лицом такого сопротивления попытки Вёльнера заглушить дискуссии и очистить административные структуры от критиков-рационалистов должны были иметь в лучшем случае ограниченный успех. Весной 1794 года Герман Даниэль Гермес и Готтлоб Фридрих Хильмер, члены Королевской экзаменационной комиссии, отправились в Галле, чтобы провести инспекцию городского университета и гимназии. Университет Галле когда-то был штаб-квартирой пиетизма, но теперь стал бастионом радикального богословия, руководство которого выразило официальный протест против недавних цензурных мер. Когда вечером 29 мая Гермес и Хильмер добрались до города и направились к своим номерам в отеле "Золотой лев", их осадила толпа студентов в масках, которые до самого утра стояли перед их окнами, скандируя рационалистические лозунги. На следующую ночь еще более многочисленная и шумная толпа студентов собралась, чтобы послушать речь одного из них, кипящую, по мнению несимпатичного зрителя, "богохульствами и нерелигиозными выражениями", а затем забросала окна комнат экзаменаторов плиткой, кирпичами и булыжниками.
Хуже того, руководство университета отказалось проводить политику Вёльнера на факультетах - отчасти потому, что им был враждебен дух эдикта, а отчасти потому, что они считали навязывание подобных мер сверху несовместимым с академической свободой и автономией своего учебного заведения. "Что нам остается?" - в отчаянии воскликнул Гермес во время трудной встречи с высшим университетским руководством. Нам еще не удалось вытеснить ни одного неологического проповедника. Все против нас".62
К 1795 году, когда не удалось реализовать новые меры в самом важном университете Пруссии, стало ясно, что авторитарный проект Вёльнера исчерпал себя. В целом, конечно, происходило ужесточение цензуры, особенно по мере того, как разворачивающаяся Французская революция выявляла масштабы угрозы, которую представлял для традиционной власти политический радикализм. Одним из ярких свидетелей этих событий был издатель и патриот Фридрих Николаи, который в 1792 году перевез свой журнал "Всеобщая немецкая библиотека" в Альтону (город, примыкающий к Гамбургу, но находящийся под властью Дании), чтобы избежать внимания прусских цензоров. В письме Фридриху Вильгельму II от 1794 года Николай протестовал против недавних мер, отмечая, что в результате режима, введенного после 1788 года, число независимых типографий в Берлине сократилось с 181 до 61, и лукаво предполагая, что это наносит ущерб королевским налоговым поступлениям.63 Было ли это сокращение исключительно результатом цензуры (в отличие от рыночных сил), сомнительно. Однако среди представителей прусской интеллигенции явно наблюдалось повышенное нетерпение к правительственной цензуре. Отчасти это было связано с реальными ограничениями, но также выражало расширение ожиданий, возникших во время интеллектуального и политического брожения 1780-х годов. К середине 1790-х годов "свобода слова" в Пруссии определялась в гораздо более радикальных терминах, чем в предыдущее десятилетие, а теплое сияние, в котором харизма "Фридриха Неповторимого" омывала колеса государственной машины, после 1786 года постепенно угасло.
Несмотря на такое ухудшение общественного настроения, важно не преувеличивать деспотичность постфредериковской администрации. Недавнее исследование берлинской прессы времен Французской революции показало, что прусские подданные имели доступ к чрезвычайно подробному и достоверному освещению событий во Франции не только во время либеральной революции 1789-92 годов, но и во время якобинского террора и в последующий период. Сообщения в берлинской прессе включали в себя сложные политические комментарии, которые далеко не всегда были враждебны делу революционеров. В частности, "Haudesche und Spenersche Zeitung" отличалась симпатией, с которой излагались и объяснялись позиции и политика различных партий (включая даже Робеспьера и якобинцев). Прусское правительство ни разу не предприняло серьезных попыток помешать распространению информации о французских событиях, даже во время суда и казни короля в 1792-3 годах, или добиться того, чтобы цареубийцы и их союзники были выставлены в особенно враждебном свете. Власти также не препятствовали широкому использованию современных репортажей в